Багрицкий Эдуард Георгиевич
Классик, блистательный поэт и переводчик.
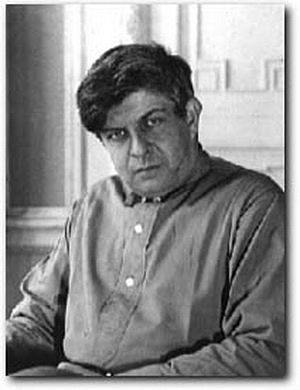 Эдуард Георгиевич Дзюбин (литературный псевдоним — Багрицкий) — родился 3 ноября (по новому стилю) 1895 года в Одессе, в мещанской еврейской семье на Базарной улице, где «все навыворот, все как не надо». Родители любили его, хотели сделать из него коммивояжера, страхового агента или приказчика — он убегал из ремесленного, а затем землемерного училища на море. Но Эдуард так и не научился плавать: мальчиком (а потом и взрослым!) он был физически немощным, ибо с девятилетнего возраста и до смерти в тридцать девять лет страдал жестокой бронхиальной астмой.
Эдуард Георгиевич Дзюбин (литературный псевдоним — Багрицкий) — родился 3 ноября (по новому стилю) 1895 года в Одессе, в мещанской еврейской семье на Базарной улице, где «все навыворот, все как не надо». Родители любили его, хотели сделать из него коммивояжера, страхового агента или приказчика — он убегал из ремесленного, а затем землемерного училища на море. Но Эдуард так и не научился плавать: мальчиком (а потом и взрослым!) он был физически немощным, ибо с девятилетнего возраста и до смерти в тридцать девять лет страдал жестокой бронхиальной астмой.
Тридцать лет прожил поэт в любимой своей Одессе, и море было его неутоленной жаждой жить, быть здоровым, молодым:
Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу.
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот, —
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
— Ай, Черное море,
Хорошее море!..
Но это напишется в 1927 году, а за десять с лишним лет до этого молодой поэт жил в условном и книжном мире, в котором были и Александр Грин, и Тиль Уленшпигель, и Летучий Голландец, и экзотические стихи раннего Багрицкого о корсарах и римских полководцах, сделанные «под Гумилева». «Этот туман, — как сказал мне однажды покойный харьковский писатель Рафаил Моисеевич Брусиловский, приятель Багрицкого по молодости, — рассеивался слишком долго, и только в 1924 году, когда появились стихи о Пушкине и „Арбуз“, все поняли: в литературу пришел большой поэт».
К Пушкину Багрицкий и его близкие друзья относились благоговейно: «Когда мы проходили мимо дома, где жил Пушкин, — вспоминает Валентин Катаев, — мы молча снимали шапки». В 1924 году, к 125-летию со дня рождения Пушкина, поэт закончил маленький пушкинский цикл: «Пушкин» (1923), «Одесса» (1923), «О Пушкине» (1924). Последнее стихотворение цикла — наиболее художественное:
… И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает — здесь конец…
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
Кровь на рубахе… Полость меховая
Откинута. Полозья дребезжат.
Леса и снег и скука путевая,
Возок уносится назад, назад.
Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова
То, что влюбленному забыть нельзя, —
Рассыпанные кудри Гончаровой
И тихие медовые глаза.
В. Катаев дает свое пояснение последним двум строчкам, рисующим портрет Натальи Николаевны: «Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директуар, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносмородинные… А рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую так страстно полюбил птицелов (Багрицкий) и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером».
Приведу полемическую по отношению к Багрицкому строку Марины Цветаевой из «Стихов о Пушкине», размышляющей о том, как воплощается в поэзии образ великого поэта:
— Пушкин — в роли пулемета!
Сравните:
И в свисте пуль, за песней пулеметной,
Я вдохновенно Пушкина читал!
(«О Пушкине»)
Не хотела Марина Цветаева, чтобы Пушкина политизировали и связывали с темой братоубийственной гражданской войны…
Стихотворение «Арбуз», не принятое «опытным» литсотрудником одесской газеты «Моряк» (мол, сезон арбузов еще не наступил!), обычно включали в сборники типа «Лирика моря» или «Стихи о любви». Да, там от первой до последней строки развернут образ бушующего моря, а финал стихотворения — лирически-любовный:
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка…
И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..
Главная же суть стихотворения в ином: Багрицкий, как и некоторые поэты 20-х годов (Н. Асеев, М.Светлов, В.Сосюра и др.), не принял новую экономическую политику (нэп), увидел в ней не утверждение естественных рыночных отношений, а измену делу революции:
Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина.
«Как рынок» — только в стихах, связанных с неприятием нэпа, могло появиться такое сравнение! Приведу также строки из «Стихов о соловье и поэте» (1925), полные сетований на то, что из жизни уходит подлинная романтика:
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Долгие годы думаю над двумя вопросами. Почему в стихах Багрицкого середины 20-х годов так настойчиво повторяется тема бездомности, неприкаянности, одиночества? Почему в 1926 году, когда Сталин уже почти «задушил» нэп, Багрицкий в стихотворении «От черного хлеба и верной жены...» без каких-либо иносказаний и условностей выражает свое недовольство действительностью?
Как спелые звезды, летим наугад…
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
— вряд ли здесь отражены только антинэповские настроения. Я думаю, что поэт, стремясь идти в ногу со временем, не понимал, куда идет время…
Э. Багрицкий был классическим бедняком (хотя у него всегда жил какой-нибудь нахлебник!): не в чем было выйти на улицу, и жена сшила ему из своей старой-престарой юбки штаны-галифе; денег в семье не было, в одесской газете «Моряк» с поэтом расплачивались черным кубанским табаком, ячневой кашей и соленой камсой. На Молдаванке поэт жил с семьей (сыну Севе шел уже пятый год) в постройке, похожей скорее на сарай; на полу стояло корыто: крыша вечно протекала.
Близкие Багрицкому прозаики и поэты «одесской школы» (В. Катаев, Ю.Олеша, И.Ильф, Е.Петров, Л.Славин, С.Кирсанов, В.Инбер и др.) в самом начале 20-х годов уже покинули Одессу, и в конце 1925 года Валентин Катаев приехал из Москвы специально за Багрицким: «Собирай вещи, Эдя, я купил для тебя билет». Катаев в своей интереснейшей книге о литературной жизни 20-х годов «Алмазный мой венец» назвал Багрицкого, автора стихотворений «Птицелов», «Голуби», большого любителя и знатока птиц, «птицеловом»: «Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе». И тогда «птицелов» послал телеграмму feme: «Собирай барахло Хапай Севку Катись Москву». Багрицкий долго уверял телеграфистку, что иначе в Одессе не поймут…
Поселились Багрицкие в Кунцево, под Москвой, где снимали половину избы без самых элементарных удобств, особенно необходимых больному человеку. В этой избе в первой половине 1926 года и была написана поэма «Дума про Опанаса».
Сколько гонений претерпела эта поэма в сталинские годы: в редакционной статье «Литературной газеты» (30 июля 1949 года) «За идейную чистоту советской поэзии» поэма Багрицкого была расценена как клевета на украинский народ, а через несколько лет, в период «борьбы с космополитизмом», критик А.Тарасенков объявил «Думу про Опанаса» сионистским произведением.
Сегодня мы имеем возможность по-новому взглянуть на «исхлестанные» произведения былых лет. Конечно же, Багрицкий был человеком своей эпохи, он не только не противостоял, как, скажем, Пастернак, Ахматова или Мандельштам, коммунистическим догмам, но и защищал их. Ни один пионерский или комсомольский сбор не обходился когда-то без фрагмента из поэмы «Смерть пионерки»:
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Вдумаемся в эти и в далее следующие строки: «Но в крови горячечной /Подымались мы...»; «Чтоб земля суровая /Кровью истекла...». Но зачем же надо было в годы гражданской войны лить кровь, убивать друг друга и в этом братоубийственном кошмаре укреплять мужество… «сталью и свинцом»?!
В «Разговоре с комсомольцем Н.Дементьевым»* (Н. И.Дементьев (1907-1935) — талантливый поэт 20-30-х годов, отказавшийся стать осведомителем НКВД и, затравленный, издерганный вконец, покончивший жизнь самоубийством) (1927) тема гибели в жестоком бою поднята Багрицким до романтических высот:
Проклюют навылет,
Поддадут коленом,
Голову намылят
Лошадиной пеной…
Степь заместо простыни:
Натянули — раз!
… Добротными саблями
Побреют нас…
Покачнусь, порубан,
Растянусь в траве, —
Привалюся чубом
К русой голове...
А нужно ли было воспевать — пусть и талантливо! — кровавую мясорубку гражданской войны?
Нет, не хотел воевать (было бы за что!) украинский хлебороб Опанас, силой мобилизованный в продотряд Иосифа Когана, не хотел он убивать своего бывшего командира, уже будучи в махновском отряде («Он грустит, как с перепоя, /Убивать не хочет»), его мучают страшные видения: «Одного не позабуду, /Как скончался Коган...» (шолоховского Григория Мелехова тоже мучили черные воспоминания о зарубленных им матросах!). Мирного труда жаждал Опанас («Не хочу махать винтовкой, / Хочу на работу!») — не получилось.
В полтысячи строк своей поэмы Багрицкий вложил содержание, достаточное для романа, описал трагедию украинского крестьянина, обманутого всеми режимами, создал величественный и трагический образ замученной классовыми раздорами Украины:
Тополей седая стая,
Воздух тополиный…
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
Багрицкий говорил о своей поэме: «Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его „Гайдамаков“. „Об украинско-шевченковских традициях в поэме говорят не только ритм, но и эпиграф из “Гайдамаков», и постоянные, в духе шевченковских поэм, неоднократные обращения автора к Опанасу, к Украине, и «коломыйковый» стих Шевченко с его разностопным хореем, и украинизмы («жито», «ненька», «катюга», «каганец», «хлопец»).
Думаю, что будущие исследователи литературы еще напишут о влиянии на Багрицкого большой поэмы Ильи Сельвинского «Улялаевщина» (об этом не написано ни одной фразы) — ученые чаще писали о художественных отзвуках «Слова о полку Игореве» в поэме Багрицкого.
Природа в «Думе про Опанаса», как и в «Слове...», является участником событий: украинская степь и небесные светила, степные птицы и звери, солнце и ночная тьма передают настроения людей и драматизм происходящих событий:
Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
…
Див судит полночным криком
Гибель Приднестровью.
Интересны в поэме повторы («Украина! Мать родная!/ Жито молодое!»)*, особенно повторы видоизменяемые, связанные с драматическими поворотами в судьбе Опанаса:
Опанасе, наша доля
Туманом повита…
…
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..
…
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога...
Песенный строй «Думы...», постоянные эпитеты («жито молодое», «горючие кости») в сочетании с яркими, оригинальными эпитетами (например, «сахарное утро»), обилие разговорных элементов, подобранные к месту просторечия — я перечислил только часть художественных особенностей произведения Багрицкого.
Эдуард Багрицкий был блистательным переводчиком Роберта Бернса, Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, Миколы Бажана и Владимира Сосюры.
Любил он в поэзии и в жизни мажор, о чем говорит один случай, описанный Константином Паустовским в «Золотой розе» и свидетельствующий о том, что Багрицкий не любил Семена Надсона, в стихах которого (причина этому — неизлечимая болезнь, погубившая талантливого поэта в двадцать пять лет) преобладали минор, усталость, надрыв.
Паустовский и Багрицкий сидели в кафе, когда в нем появился известный в Одессе нищий, не просивший, а нахально требовавший у людей деньги. Багрицкий встал и пошел на старика, не спуская с него глаз и с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом читая надсоновские строки:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душою!
Нищий осекся. Глаза его побелели. Он начал отступать, опрокинул стул, задрожал от страха и пустился наутек.
Багрицкий вернулся к Паустовскому и на полном серьезе сказал: «Вот видите, даже одесские нищие не выдерживают Надсона!»
А каким было главное «хобби» Эдуарда Багрицкого? Отвечу: птицы и рыбы, которым посвящено немало стихотворений и строк. Некоторые рыбоводы считали поэзию Багрицкого блажью, оправдание находили лишь в плане приобретения средств для покупки рыбы. Среди натуралистов-профессионалов он считался знатоком высокого класса, ихтиологи обращались к нему за консультациями.
Об эрудиции Багрицкого ходили легенды, его феноменальная память хранила тысячи поэтических строк, остроумие поэта не знало пределов, доброта его согрела не одного поэта 20-30-х годов. Одним из первых Багрицкий отметил талант молодых А.Твардовского, Дм. Кедрина, Я.Смелякова. К нему буквально ломились начинающие поэты с просьбой выслушать и оценить их стихи. Покой ему даже не снился.
Багрицкий вывешивал объявления («Никого дома нет!»), говорил по телефону женским голосом — ничего не помогало. Qhd «по-турецки» на диванчике, тесно прислонив грузное тело к столу, он попыхивал стеклянной трубкой, в которой клокотал спасительный астматол, и слушал, слушал тех, чей поэтический взлет он уже не увидит…
У Багрицкого никогда не было страха перед смертью. В «Тиле Уленшпигеле» были строки, похожие на автоэпитафию:
Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,
Скажу ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора!»
Поэт был отрешен от земных благ, чужд погони за славой и наградами. С чувством пел песню на стихи Беранже «Мой старый фрак»:
Пускай иной хлопочет для отлички
Взять орденок — за ним не лезу я:
Два-три цветка блестят в твоей петличке.
Мой старый друг, не покидай меня!
Боготворил Багрицкий Пушкина, восторгался Маяковским, с упоением читал асеевских «Синих гусар», в «Разговоре с комсомольцем Н.Дементьевым» засвидетельствовал и другие свои литературные симпатии:
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...
Если Тихонова власти всячески поддерживали, к Сельвинскому относились настороженно, к Пастернаку — враждебно, то имидж Багрицкого как советского поэта выдерживался властями неукоснительно. В 1930 году Багрицкий, как и Маяковский с Луговским, был принят в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей) и осчастливлен — после кунцевского сирого жилья — двумя комнатами в новом писательском доме в проезде МХАТа. Но ничего подобного «Арбузу», стихам о Пушкине и «Думе про Опанаса» в последний период своей жизни (1930-1934) он уже не написал. Вышедшая в 1932 году (советско-коммунистическая от начала до конца!) поэтическая трилогия («Последняя ночь», «Человек из предместья», «Смерть пионерки») славы Багрицкому не прибавила.
16 февраля 1934 года, заболев в четвертый раз воспалением легких, Багрицкий скончался. За гробом поэта с шашками наголо шел эскадрон молодых кавалеристов. Мне видится в этой трагически-торжественной картине нечто символическое: Багрицкий был трепетно влюблен в бойцов; лошади, сабли, комбриги, трубы — вот что всегда волновало поэта, любившего dsunbs~ музыку, кавалерийские марши и досадливо снимавшего радионаушники, если в них начинал звучать какой-нибудь сентиментальный романс. «От него — умирающего — шел ток жизни» (И. Бабель).
Часто начинал разговор словами: «Вот увидите, в будущую войну...».
И Севу, сына своего, готовил к войне, закалял его по-спартански: в двенадцать лет мальчик владел огнестрельным оружием, переплывал Москву-реку, в четырнадцать лет ходил на лыжах босиком.
Всеволод Багрицкий (ему отец посвятил «Папиросный коробок», «Всеволод», «Разговор с сыном») мог бы стать профессиональным поэтом, его ожидало счастье в любви, невестой его была Елена — та, что станет через годы женой академика А.Д.Сахарова. А военный журналист и поэт Всеволод Багрицкий, не проживший полных двадцати лет, погиб 26 февраля 1942 года. Мама о смерти сына узнала в лагере, где она находилась с осени 1937 года.
На сосне, рядом с могилой Всеволода в небольшой лесной деревушке Дубовик Ленинградской области, скульптор Вучетич, работавший с погибшим в редакции фронтовой газеты «Отвага», вырезал несколько измененное четверостишие Марины Цветаевой, которое Багрицкий-младший очень любил и часто повторял:
Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С родимой моей земли.
Вот и оборвалась могучая ветвь и распускавшаяся веточка, но зарубки на древе нашей поэзии остались. Навечно.




