о Татьяне Бек

Началоздесь
«Простой ужас простой жизни»
Татьяна Александровна Бек родилась 21 апреля 1949 года в Москве в семье писателя Александра Бека.
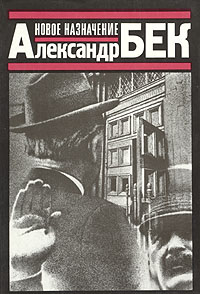

В этом шумном доме, кооперативе «Московский писатель» по адресу 2-я Аэропортовская дом 7/15 (позднее ул. Черняховского 4), в пятом подъезде, она жила с 1957 года до середины 80-х годов.


Я из этого шумного дома,
Где весь день голоса не смолкают,
Где отчаянных глаз не смыкают
И смеются усталые люди,
И не могут друг друга понять,
Я на лыжах, на лыжах, на лыжах,
На растресканных, старых и рыжих,
Убегу по лыжне незнакомой,
По прозрачной, апрельской лыжне.
Дует ветер, как мальчик, грубый.
Крепко-крепко сжимаю губы,
Я быстрее еще могу!
По-разбойничьи свищут лыжи,
Мальчик-ветер лицо мне лижет,
А лицо мое — в талом снегу.
До чего же тут все по-другому,
Тут сама я честнее и проще,
Тут взрослее я и сложней.
Мне как фильтры — белые рощи!
… Я из этого шумного дома
Убегу по лыжне незнакомой,
По прозрачной апрельской лыжне.

По времени вхождения в литературу Бек — семидесятница, но она чувствовала себя ближе со старшими, чем со сверстниками, поэтически важнейшие для нее связи уходили поверх 60-х — в предшествующую эпоху.
Оттуда и ее ощущение жизни — из послевоенного, позднесталинского, послесталинского детства.
Строились разрухи возле.
Вечный лязг, и треск, и гром.
Даже летом ноги мерзли
В помещении сыром,
Тесном и полуподвальном,
Где обоев цвет несвеж…
В этом братстве коммунальном
Мы росли эпох промеж.

Первая крупная публикация – журнал «Новый мир» (1966). Окончила факультет журналистики МГУ. Первый поэтический сборник вышел в 1974 году. Критики тепло встречали ее стихи, но относили их к разряду женской поэзии.
В 70-е годы Татьяна Бек работала библиотекарем во Всесоюзной Государственной библиотеке иностранной литературы.
В 1972-ом окончила факультет журналистики МГУ. В 1974 году вышел ее первый поэтический сборник «Скворешники».
Работала обозревателем в журнале «Вопросы литературы», вела поэтическую колонку в «Общей газете», занималась литературой «серебряного века».
В Литературном институте вела поэтический семинар.

«Стихосложенье было и остаётся для меня доморощенным знахарским способом самоврачеванья: я выговаривалась… и лишь таким образом душевно выживала», — признавалась она.
Менялся нрав, ломался голос.
Не помню лета — помню стужу.
Какой-то стыд, какой-то тормоз
Мешал мне вырваться наружу.
Мой внешний мир с одной читальней,
Троллейбусом и телефоном
Завидовал дороге дальней,
Лесам глухим, морям бездонным!
Не знала я, что суть не в этом,
Что дух, невысказанный, пленный,
И был бескрайним белым светом,
Огромной маленькой вселенной.

Она не боялась говорить естественно и просто, не придумывала ни свои стихи, ни себя в них.
Сядь в электричку и выйди в тамбур,
И задохнешься, как в первый раз
(Больно — поэтому без метафор):
Просто осина и просто вяз.
Развивая классическую традицию русского стиха, Татьяна Бек дерзновенно взрывала поэтическое слово изнутри — силой характера, неординарностью взгляда и самооценки, уникальностью судьбы.
Поразмысли над этим, историк!
… Вижу, как на ветру холостом
Снова рушится карточный домик,
А когда-то — Незыблемый Дом.
Неужели святыню — на свалку?
Неужели не вечен оплот?
… Пенелопа забросила прялку:
С женихами хохочет и пьёт.
А ведь было: воскресные шляпы!
Наведя неказистый уют,
Наши бедные мамы и папы
Облаками попарно бредут...

В одном из стихотворений Т. Бек скажет:
Я счастливая! Мне повезло
быть широким и смешанным лесом.
Здесь имеется в виду множество национальностей, которые были перемешаны в крови её предков. Отец был обрусевший датчанин, мать — наполовину русская, наполовину белоруска, дед по отцу — еврей. Татьяна считала, что её необузданный характер объяснялся именно такой смесью кровей: «Иногда бывают порывы, перемены настроения, безумства. Четыре четверти пошли друг на друга в бой!» — говорю я в таких случаях».

Как справедливо заметила критик Алла Марченко, — «Татьяне Бек единственной из всех нас удается почти невозможное — от себя за всех спеть то, что не ложится на голос: простой ужас простой жизни… И при этом — сохранить и речь, и голос, и слово, и походку стиха».
***
Умирающий бесповоротно,
Он надел на пижаму медаль...
И раскрыты глаза, как полотна,
На которых — последняя даль.
Не помогут ни Бог, ни аптека,
Ни домашняя грелка со льдом.
У него, у ровесника века,
За плечами — не сад, а содом.
Все равно! Доставайте медали -
На комоде, в большом стакане.
Мы же верили, мы воевали.
Мы летали на красном коне.
И, в матрас упираясь локтями,
Он восстанет и крикнет с одра:
— Не подумайте, люди! Я с вами.
Я еще доживу до утра.
Она умела бесстрастно и безжалостно воссоздать эпоху. Стиль — графичный, сдержанный, без вычурных метафор. Но их видимая лаконичность скрывает бездну глубины чувств и эмоций, читаемых между строк.

***
«Вы зайцы. Оплатите штраф!»
Плывёт корабль под новым стягом.
Лицо, упрятанное в шарф,
и ночь, охваченная страхом.
Узорчатая, как змея,
и смертоносная, и злая,
ты ль это родина моя,
где в люльке крашеной росла я?
Нет, это попросту мираж:
он не навеки, не надолго.
В стране порош, в стране параш
я потеряюсь, как иголка.
Но и разбитая дотла,
проговорю из-под завала,
что здесь я счастлива была,
бродяжила и целовала,
и вышивала по канве,
и враждовала под конвоем.
И родина — в снегу ль, в траве -
меня оплачет волчьим воем.

***
И эта старуха, беззубо жующая хлеб,
И этот мальчонка, над паром снимающий марки,
И этот историк, который в архиве ослеп,
И этот громила в объятиях пьяной товарки,
И вся эта злая, родная, горячая тьма
Пронизана светом, которого нету сильнее.
… Я в детстве над контурной картой сходила с ума:
(На Северный полюс бы! В Африку! За Пиренеи...)
А самая дальняя, самая тайная соль
Была под рукой, растворяясь в мужающей речи.
(… И эта вдова — без могилы, где выплакать боль,
И этот убийца в еще сохранившемся френче...)
Порою покажется: это не век, а тупик.
Порою помнится: мы все — тупиковая ветка.
Но как это пошло: трудиться над сбором улик,
Живую беду отмечая лениво и редко!
Нет. Даже громила, что знать не желает старух,
И та же старуха, дубленая криком: С вещами!
И снег этот страшный, и зелень, и ливень, и пух -
Я вас не оставлю. Поскольку мне вас завещали.

На протяжении долгого времени она была членом российского Пен-клуба, доцентом Литературного института. Татьяна Бек — лауреат поэтических премий года журнала «Звезда» и «Знамя», ежегодной премии Союза журналистов России «Серебряный гонг», лауреат конкурса «Московский счет» (номинация «Лучшая поэтическая книга года»).
Тем не менее её мало знают и мало ценят. Вернее, ценит не такой широкий круг читателей, которого она заслуживает. А со времени трагической её безвременной гибели и вовсе забыли. Эта чудовищная несправедливость не поддаётся пониманию, не укладывается в голове. Как будто бы благополучная литературная судьба Бек внутренне ощущалась ею как сопровождающаяся непониманием и несправедливостью.
Я плакать хотела, но мне запретили,
И годы, как крупные слезы, текли.
… Записка с гаданьем в китайском трактире,
Которую в рисовый хлеб запекли,
Гласила, внезапная, как откровенность,
Как детская тяга, как дрожь бытия:
«В грядущем у вас — лишь одна драгоценность:
Прошедшее ваше». О, радость моя!

***
Как выпить жизнь до дна
и не сойти с ума?
Одна. Одна. Одна.
Сама. Сама. Сама.

Книги Татьяны Бек
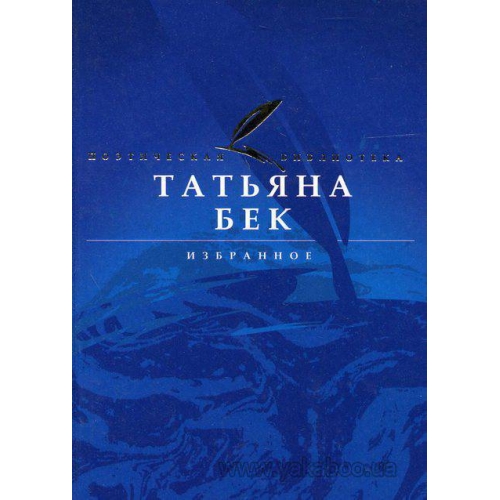
Сборники поэзии:
«Скворешники» (М.: Молодая гвардия,1974)
«Снегирь» (М.: Советский писатель, 1980)
«Замысел» (М.: Советский писатель, 1987)
«Смешанный лес» (М.: ИВФ «Антал». 1993)
«Облака сквозь деревья» (М.: Глагол. 1997)
«Узор из трещин» (М.: ИК «Аналитика». 2002)
«Сага с помарками» (2004)
Литературная критика
Татьяна Бек. До свидания, алфавит. Б. С.Г.-ПРЕСС, М., 2003, 639 с. Литературная критика, эссеистика и «беседы», автобиографические зарисовки и мемуары.
Татьяна Бек. Она и о ней: Стихи, беседы, эссе. Воспоминания о Т.Бек. ПРЕСС, М., 2005, 832с

Это книга издана в память о Татьяне Бек, здесь представлены ее последние стихи, беседы-интервью с известными деятелями культуры, острые эссе. Мемуарная часть состоит из воспоминаний о Татьяне Бек ее друзей, в основном литераторов.
Вот как вспоминают Татьяну Бек её друзья и ученики:
Сергей Арутюнов:

«Подмывает сказать, что эти стихи — классика, и тут же спохватываешься: классики в том виде, в котором она бытовала у нас как минимум в течение ста лет, больше не существует. «Классическая классика» попадает в школьные и институтские программы, заучивается наизусть, обсуждается, переиздается — а кто будет переиздавать книги Бек? Пушкин? Покойный Гантман? Еще какие-нибудь добрые мужественные подвижники? Не верится. Простите — не верю.
По «классической классике» пишутся диссертации, на нее ссылаются, о ней вообще говорят. А Бек в тех же блогах сегодня цитируют в основном девушки, заглянувшие на какой-нибудь женский форум: под стихотворением, стянутым из какого-нибудь раннего сборничка, как правило, или недоуменное или равнодушное молчание или — того хуже — подблеивающие оценки полудурков обоих полов.
Дело не в моем апокалиптическом взгляде на вещи: объективно происходит свертывание прежних литературоцентрических координат...
Ей достался на долю великий духовный перелом — не зря она так часто ломала ноги.
Интеллектуальное пространство «толстых журналов», прибежища «перестроечной мысли», сегодня выглядит изодранно — «народу это больше не нужно». Заменивший интеллигентские координаты суррогат телевидения органически не пропускает ни единого живого слова. Негласно действует цензура, пропускающая любую мерзость, но стеной встающая там, где начинает звучать голос совести. Отупение нации развивается скачкообразно, угрожая стать необратимым.
В 1993-м году немыслимая жестокость русской жизни подступает вплотную и, кажется, молодецки бьет женщину по плечу, дескать, ну, сказани, сказани мне еще, люблю смелых дур… подставься! До конца после прозрения поэт вынужден стоять под ледяным ветром. Больше — ни пристанища, ни утешения. Разрывы с друзьями, метания, гибель.
Любовная, пейзажная, портретная лирика ее, убежден, создавалась во имя высшей точки кипения лирики — четырехсот пятидесяти одного градуса по Фаренгейту...
Ей образцово дурно жилось. Бывало, я мог привести ее по телефону в состояние приподнятое: ей приходила в голову мысль или строка, и она спешила проститься. А может быть, приходил долгожданный гость. Очно, помнится, наши разговоры не клеились: она много куда спешила. Она была нетерпелива, она все время кого-то ждала, неслась по городу, чтобы не думать о неизбежном — о том, что одинока, нелюбима, предаваема на каждом шагу обстоятельствами, бытом, заговором молчания вокруг «нашей милой Тани». Неслась… На улице ее интересовало то, от чего я обычно отводил взгляд: бомжи, придурки, помойки, старухи, цыганки, кошки и нищенки.


Она любовно называла их «сумасшедшими».

Странноприимство… оно было свойственно ей куда в большей степени, чем кому бы то ни было. Удивительно, как не толклись возле ее двери паломничающие нищенки и калики перехожие, но тут лишь реалии века: обворовывали ее регулярно...
Теперь я говорю, что она моя литературная мать, что у нее я учился и стихам, и, что главнее, чувствованию правды, исступленному всматриванию в ткань словесную и житийную (как редко удается избегнуть пафоса там, где его следует избегать).
Если бы не она, меня бы не было…»
Евгений Степанов:

«Каким она была человеком? Она была поэтом. То есть человеком непростым — порывистым, увлекающимся, резким.
Когда вышла толстенная книга мемуаров о ней, в которой я прочитал воспоминания самых различных людей, то с удивлением обнаружил, что практически с каждым из авторов сборника она в разное время находилась в конфликте.
Она крайне не любила наше аэропортовское “гетто” (вообще, писательскую среду), избегала ее, но беда заключалась в том, что другой среды у нее — от рождения! — не было.
Дмитрий Сухарев на одном вечере назвал её: “Бек с препятствиями”.
Очень часто говорили о Евгении Рейне. Я все удивлялся, что она так тепло относится к этому литератору.
— Он ведь не поэт! — однажды, выпив для храбрости рюмашку коньяку, сказал я.
Она непритворно удивилась:
— А кто же он тогда? Городской сумасшедший?
— Насчет сумасшествия не знаю. Но, конечно, то, что он делает, это плохая зарифмованная проза. Длинная и занудная.
— А Николай Алексеевич Некрасов?
— То же не поэт! — рубил я, войдя в раж, с плеча. — Он — прозаик, писавший в рифму. И Пушкин прозаик.
Она хохотала.
Потом я “напал” и на Владимира Корнилова. И тут она “взорвалась”. И прямо послала меня на три буквы.
Через час прислала письмо с извинениями.
Татьяна Бек в том направлении, в котором она работала, по праву считалась настоящим мастером. Она была в поэзии (и в жизни) предельно искренна, ее стихи исповедальны и завораживающи.
Она была увлекающимся человеком. И, зачастую, на мой взгляд, переоценивала своих друзей (в первую очередь отношу это к себе). То есть она проявляла симпатию к человеку — и эта любовь переходила на его творчество. Она начинала этого человека всячески пропагандировать — публиковать, писать о нем рецензии, рассказывать по радио. И любовь не знала границ.
Иногда она мне рассказывала о своей личной жизни. Фигурировали очень известные литературные имена. Писать об этом не имею права.
Она была уникально образована. Другого такого знатока поэзии я не знал. Когда нужно было что-то уточнить (дату рождения поэта, кто автор той или иной строки и т.д.) — я звонил ей. И она выдавала информацию лучше, чем энциклопедический словарь.
Работоспособность — феноменальная. Она сделала комментарии к книгам своего отца, писателя Александра Бека, составила Антологию акмеизма, издавала книги Соколова, Глазкова, Некрасовой, работала журналисткой, писала рецензии, делала интервью…

Когда в 2003 году вышла ее книга “До свидания, алфавит”, я прочитал ее с огромным интересом. Это собрание эссе, литературных портретов, баек-миниатюр, мемуаров, интервью, стихов… Многожанровая книга. И в каждом жанре Татьяна Бек предстала сложившимся профессионалом, имеющим свою индивидуальность.
Она была самоиронична. Любила посмеяться над собой, нарисовать шаржированный автопортрет (один из них у меня сохранился).

Процитирую симпатичнейший фрагмент из книги “До свидания, Алфавит”, где фигурирует Фаина Раневская.

“Фаина Георгиевна Раневская, которая очень подружилась с моими родителями летом 1964 года на финском взморье, в Комарове, называла меня приязненно “мадмуазель Модильяни” — за мою худобу и вытянутость на грани шаржа. Позднее, уже в Москве, она мне даже, когда мы ходили к ней в гости, подарила итальянский альбом художника с соответствующей надписью...
Теперь я уже ближе к мадам Рубенс...”
По отцу она была обрусевшей датчанкой, а по маме наполовину русской, наполовину еврейкой…
Ее важнейшая черта — безукоризненная моральная чистота, порядочность и щепетильность.
Помню, предложил ей напечататься в моем новом журнале “Дети Ра”. Она согласилась, но предупредила:
— Я дам подборку, но эти стихи скоро выйдут в моей новой книге. Ты согласен на такие условия?
Я, конечно, согласился. Честно говоря, никто из поэтов за долгие годы моей редакторско-издательской деятельности о подобных вещах никогда не предупреждал.
Она жила небогато. Иногда денег не было совсем. Но никогда не просила».
Евгения ДОБРОВА:

«Сама Татьяна Александровна называла вдохновение «лихоманкой», а стихосложение — «знахарским видом самоврачевания», чем-то вроде пускания крови в старину. К ее творчеству эта метафора применима совершенно. У Бек очень болезненная лирическая струна, очень искренняя поэзия. Автобиографичная, исповедальная. Такая растрава «на разрыв аорты». Можно в слезах захлебнуться. Читаешь про нее — и себя жалко. Сильное сопереживание рождается.
Поразительно, при всем трагизме, обнажении ран, в стихах нет мести миру — мести за свое личное не-счастье. «Я булыжник швырну в лимузин, проезжающий мимо бомжа» — это другое. Принцип. Гражданская позиция, если угодно.
Вообще, Татьяна Александровна была очень принципиальной, до непримиримости иногда, и в ее поэзии такие контрапункты звучат отчетливо.
Мне нравятся её стихи, в которых метафора одиночества — а у Бек почти все стихи пропитаны этим раствором — раскрывается через предметы обихода, быта. Взять хотя бы хрестоматийное «Я проклята. Я одинока. / Я лампу гашу на столе». Трагедия жизни деликатно разыгрывается через милые домашние мелочи — это мастерство высокого полета и высокого такта».
Любимые стихи
Я тоже очень люблю это стихотворение Бек. По-моему, оно никого не сможет оставить равнодушным:
***
Гостиничный ужас описан...
Я чувствую этот ночлег, -
Как будто на нитку нанизан
Мой ставший отчётливым век, -
Где кубики школьного мела
Крошились, где пел соловей,
Где я ни на миг не сумела
Расстаться с гордыней своей,
А вечно искала подвоха,
И на люди шла как на казнь,
И страстью горевшая — плохо
Хранила простую приязнь, -
Любимый! А впрочем, о ком я?
Ушёл и растаял вдали.
Лишь падают слёзы, как комья
Сырой похоронной земли.
Но главное: в пыточном свете,
Когда проступают черты,
Мои нерождённые дети
Зовут меня из темноты:
«Сюда!» — Погодите до срока.
А нынче, в казённом жилье,
Я проклята. Я одинока.
Я лампу гашу на столе.

Как и многие, многие другие… Я теряюсь, не зная, какие стихи выбрать для цитирования — всё родное и горячо любимое до боли!
Звонят — откройте дверь!
О неприкаянности срам!
Ходить в невероятной шляпке,
И шляться по чужим дворам,
И примерять чужие тапки...
Вам, безусловно, невдомек,
Что за нелепая фигура —
В руке цветок, в другой кулек —
Стоит на лестнице понуро?
А это — я. Я вас люблю!
Но чтобы не казаться лишней,
Лишь сообщу, что — по рублю
На улице торгуют вишней.
Полчасика — на передых.
И снова в месиво окраин...
— Не понимаю молодых! —
Мне в спину заорет хозяин.
Встреча
С таким лицом идут на подвиг
В зловещей тоге, —
С каким, на твой ступивши коврик,
Я просто вытирала ноги!
И думала, когда открыли
И вешали пальто в передней:
С таким лицом — влюбляли. Или
На грош последний
В аптеке покупали яду, —
О, наши бабки!
А я скажу: — Нет — и не надо.
Не любишь? Велика досада! —
И выбегу — пальто в охапке —
По лестнице,
потом — по саду...
Какие слова она умеет найти о любви!
***
Это что на плите за варево,
Это что на столе за курево?
Я смутилась от взгляда карего
И забыть уже не могу его.
Там, за окнами — вьюга страшная,
Тут пытают перо с бумагою...
Мне сказали, что я — отважная.
Что мне делать с моей отвагою?
— Коль отважная, так отваживай. -
… Но какая тревога — нежная!
О, любовь моя, — свет оранжевый,
Жар малиновый, буря снежная...

***
Не лицо мне открылось, а свет от лица.
Долгожданное солнце согрело поляну.
Я сказала себе, что уже до конца
Никуда не уйду и метаться не стану!
Это было как ясная вспышка во тьме,
Это было отчетливей вещего знака...
(Так больного ребенка в счастливой семье
Необузданно любит бездетная нянька.)
Я сейчас не хочу ничего объяснять,
Но по этому свету, по этому знаку
Я — невнятная дочь и небывшая мать -
Ощутила любовь как могучую тягу!
… Разолью по стаканам кувшин молока:
Отстоялось на холоде — и не прокисло...
Надвигается вечер. Плывут облака.
И людская порука исполнена смысла.
***
Ты меня исцелил. Ты вернул меня в детство,
Где надежда прекрасна, как первая елка;
Где любое касанье, любое соседство
Переходит в родство высочайшего толка;
Где садовый жасмин —как молочная пена;
Где сандалии в августе требуют каши;
Где кругом — перемены, где колется сено,
Где сбываются сны и сбиваются наши
Голоса… Ты вернул мне простые повадки:
Приласкать, заслонить и продернуть в иголку
Нить, которая держит в порядке
Мирозданье… И бусы повесить на елку —
Золотые, витые, забытые бусы, —
И приладить звезду на макушке зеленой,
И составить депешу, глотая союзы,
И швырнуть через горы рукою влюбленной:
«Ты меня исцелил…»
***
И когда над немытой харчевней
зажигается звёздная карта,
я хмелею от песни вечерней
и целую тебя троекратно.
— Уходи! Мы чужие навеки,
мы сроднились в нежизненном сплаве.
А листва обмирает на ветке,
а натура мечтает о славе,
а звезда, над землёю нависши,
прочищает вселенское горло.
О, любовь меня сделала выше:
опрокинула, смяла, простёрла,
разорила (читай — одарила),
укротила (читай — укрепила).
И протяжная, точно долина,
открывается нищая сила.
А какие — о нелюбви! -
***
Не заметил (поскольку привык),
Что — лишенная стати и сути -
Я мертвею, как мертвый язык,
На котором не думают люди.
Мы заварим немыслимый чай,
Мы добавим туда зверобою.
… Не заметил — и не замечай!
Я жива лишь твоей слепотою.
А заметишь — какая тоска, -
Я уйду, как ушли печенеги...
— Не меня ты, любимый ласкал,
Не со мною прощался навеки,
Не со мною мирился, крича,
Что не ту я фуфайку надела...
Ухожу (я была горяча
И любила тебя без предела)
Неизвестно зачем и куда
(Я и мертвая буду твоею)...
Как народ, как язык, как вода,
Ухожу, вымираю, мертвею.
***
Ну чего тебе надо, лахудра,
вместо хлеба жующая жмых?
Даже сны показали под утро,
что любви уже нету в живых.
Эта нежность — она за пределом
вероятия. Эта тоска -
в полумёртвом лесу поределом,
где не вырезать ни туеска.
Почему-то, конец ощущая,
с пущей страстью жалеешь того,
чья жестокая тень небольшая
у порога легла твоего.
***
Брошенный мною, далекий, родной, —
Где ты? В какой пропадаешь пивной?
Вечером, под разговор о любви,
Кто тебе штопает локти твои
И расцветает от этих щедрот?..
Кто тебя мучает, нежит и ждет?
… По желудевой чужбине брожу
И от тоски, как собака, дрожу —
Бросила. Бросила! Бросила петь,
И лепетать, и прощать, и терпеть.
Кто тебе — дочка, и мать и судья?
Страшно подумать, но больше — не я.
Подруге, которая тяжело переносила разлуку с любимыми людьми, она посоветовала:
— Я всегда в таких случаях говорю: переводи разлуку на музыку.
Ей это удавалось.
***
Опять говорю с ежевикой,
Опять не могу без осин.
Дрожишь и над малой травинкой,
Когда остаешься один.
Гляжу, чтоб забыть укоризну
Твою, где любви ни на грош,
Как скачет весь день по карнизу
Какой-нибудь птичий гаврош.
До боли ладонями стисну
Колени. Но вдруг разогнусь
И так по-мальчишески свистну,
Что даже сама улыбнусь.

***
От косынки до маминых бот
Я какая-то злая старуха!
Сердце бьется, как рыба об лед,
Безутешно, неровно и глухо.
Ничего… проживу… не впервой.
Даже улица пахнет вокзалом!
Чемоданами, пеной пивной,
Паровозным гудком запоздалым.
Я опять не о том говорю.
Я твой город замажу на карте!
Ничего… заживет к январю...
Только снова измучает в марте.
«Страшно у себя внутри»
«Когда человек умирает — изменяются его портреты...» И стихи тоже изменяются. В них открывается глубинный смысл, не видимый, не замечаемый раньше. С особенным трепетом читаешь сейчас её стихи о смерти. И понимаешь всем существом, до дрожи, как не случайна она была.
***
Вот оно, по-арестантски голое,
Вот оно, черное как беда...
Я захлебнусь, не найдя глагола, — и
Хватит эпитета, голое, да, -
Не наготою зверей, любовников
Или детей — наготою конца, -
Дерево из допотопных столпников,
Не покидающих тень отца, -
Вот оно: загнанное, и вешнее,
И одинокое — на юру.
… Все несказаннее, все кромешнее
Время и место, где я умру.
Эмоциональный градус бывает предельно высок, внутренние бури бушуют, еле сдерживаемые ребрами четверостиший.
***
Страшно у себя внутри,
Как в стенах чужих и стылых...
Кто-нибудь, окно протри, -
Я сама уже не в силах.
Кто-нибудь, протри окно, -
Чтобы луч раздвинул нишу...
Мне действительно темно.
Я ли света не увижу.

***
Прозренья мои — как урки,
Присевшие на пригорке.
Курила всю ночь. Окурки
Страшнее, чем оговорки.
Еще я пила из кружки
Чифирь смоляного цвета,
А кошка вострила ушки,
Не видя во мне поэта.
................ .
Отпела и отгорела…
Когда ты меня отпустишь,
Бессонница без Гомера —
Мучительная, как пустошь?

* * *
О, год проклятый — навет, и змеиный след,
И окрик барский, и жатва чужого хлеба...
И даже кошка, роднее которой нет,
Под Новый Год ушла без меня на небо.
Сквозь крест оконный — портовых огней игра:
Моя пушистая азбуку неба учит...
— Скажи: куда мне? Скажи, что уже пора. -
… Молчит, и плачет, и, всхлипывая, мяучит.

***
Ходившая с лопатой в сад,
Глядишь печально и устало...
Не строила — искала клад.
Не возводила — клад искала.
Твою надежду на чужой
Непредсказуемый подарок
Жизнь охлестнула, как вожжой:
— Не будет клада, перестарок!
… Под раскалённой добела,
Под лампою без абажура
Земная жизнь твоя прошла, -
Кладоискательница, дура...

В этих строчках уместилась вся её трагичность, «невостребованность» в обычном, обывательском понимании жизни. Они совершенно отражают её последние настроения и мысли, с которыми она ушла.






